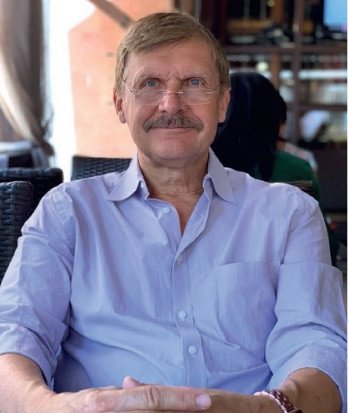Наши сегодняшние собеседники — Петр Михайлович и Константин Михайлович Чумаковы, представители династии, которая уже много десятилетий занимается вопросами фундаментальной и прикладной биологии и медицины. Их отец, академик Михаил Петрович Чумаков, — выдающийся советский вирусолог, основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов. Среди его заслуг — открытие и изучение вируса клещевого энцефалита, организация клинических испытаний и внедрения первой вакцины против полиомиелита. Мать, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР Марина Константиновна Ворошилова, тоже посвятила свою научную жизнь вирусологии, создала концепцию полезных вирусов человека, на основании которой был предложен метод неспецифической защиты и лечения вирусных и невирусных заболеваний.
Неудивительно, что братья Чумаковы — тоже вирусологи и каждый из них имеет собственные уникальные разработки в этой области.
«ВИРУСЫ - НАШИ ДРУЗЬЯ, А НЕ ВРАГИ»
Петр Михайлович Чумаков, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток.
Петр Михайлович, ваш выбор вирусологии как дела жизни, наверное, был предопределен?
В значительной степени да. За два года до окончания школы мы вместе с братом Константином начали стажироваться в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов и заниматься лабораторной вирусологической работой. У нас уже была какая-то квалификация, мы вошли в эту область, которая оказалась очень интересной, и хотелось в этом направлении продолжать. Другое дело, что продолжать можно было двумя путями: идти в медицину или в биологию. Константин решил, что будет заниматься биологией. А я пошел в медицину. Меня это привлекало больше, потому что проблемы, которые мы решаем, касаются человека. Конечная цель — сделать нечто, что принесет пользу или даст практический выход, который можно использовать для восстановления здоровья и спасения жизни.
Оставаясь вирусологом, вы занялись проблемами онкологии. Каким образом вы вышли на эту взаимосвязь?
Во многом благодаря маме. Хотя и не только. Еще в школьные, а потом в студенческие годы, в медицинском институте, я фактически работал в области вирусологии в Институте полиомиелита под руководством члена-корреспондента академии наук В.И. Агола. Он и сейчас жив-здоров, ему 90 лет, это выдающийся наш ученый-вирусолог. Но потом встал вопрос об аспирантуре, и мне захотелось переключиться на что-то новое. Я пришел в институт молекулярной биологии в лабораторию будущего академика Г.П. Георгиева. Это было очень интересное время, когда начиналась генная инженерия. Структуру и функции генов тогда начали изучать на вирусах, потому что это самая простая модель. И поэтому Г.П. Георгиев решил открыть у себя лабораторию вирусологии, которая будет отвечать современным требованиям. Когда я туда пришел, передо мной была поставлена задача создать вирусную модель на основе обезьяньего вируса SV-40. Это вирус ДНК, который в то время был горячей моделью для изучения генов. Он также может вызывать опухолевую трансформацию клеток грызунов, что важно для понимания механизмов опухоли. И вот через этот мостик я перешел к проблемам опухолевого роста.
После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации я решил продолжить работу в этом направлении. Меня интересовал вопрос: а каким же образом происходит злокачественная трансформация под действием вируса? Как раз в это время, в 1979 г., в журнале Nature появилась работа, которая показывала, что продукт вирусного гена, большой Т-антиген, белок, который необходим и достаточен для опухолевой трансформации клеток, связывается с неким клеточным белком. Сразу возникла мысль: так, может быть, это и есть та самая универсальная кнопка, на которую вирусный белок нажимает — и клетка превращается в опухолевую?
И, соответственно, если эту кнопку заблокировать, то можно избежать канцерогенеза?
В то время было представление, что это взаимодействие можно каким-то образом заблокировать. Потом оказалось, что это не так, и это тем более интересно. Я взялся тогда клонировать тот самый ген р53, который сейчас считается центральным опухолевым супрессором. Это ген, поломка которого неминуемо ведет к образованию опухолевой клетки. В 1982 г. мне удалось клонировать ген р53, то есть выделить его в виде плазмиды. Это открыло возможности для его изучения. В это время шла очень большая международная гонка клонирования гена р53, всем было понятно, что это интересная, заманчивая, интригующая мишень. Моя работа открыла дорогу на международный уровень, меня стали приглашать в разные страны. Я проработал два года в Англии, куда был приглашен сразу в качестве старшего научного сотрудника, а потом, спустя годы, занимался этим объектом и в Соединенных Штатах, в Кливленде. В течение15 лет я совмещал работу здесь и там. До 12 раз в год летал через океан. Там мы делали более продвинутую работу, потому что там очень хорошее снабжение и можно получить все, что заказал, буквально на следующий день. Такая работа доставляла огромное удовольствие.
Тем не менее вы отказались от этих поездок и остались здесь. Почему?
Потому что здесь тоже началась какое-то возрождение, была объявлена программа мегагрантов, приглашающая ведущих ученых из-за рубежа для инициации крупных проектов. Для этого надо было организовать новую лабораторию по новой теме в другом регионе, где ты никогда не работал. Я вспомнил про те проблемы, с которых начинал, будучи еще студентом: онколитические вирусы, обладающие терапевтическими свойствами.
Эти работы начинались в Институте полиомиелита под руководством моей матери М.К. Ворошиловой. Штаммы, которые мы сейчас используем для терапии рака, были впервые получены во время полиомиелитной кампании. Это непатогенные энтеровирусы, которые впервые были замечены во время вакцинации, когда у некоторых детей не образовывались антитела к полиовирусу. Было установлено, что у них в кишечнике идет бессимптомная инфекция. Тогда были выделены непатогенные энтеровирусы, которые потом использовались для неспецифической профилактики многих вирусных инфекций, а также были замечены их онколитические свойства, которые начали изучать. Но работы эти были свернуты.
Почему?
Тогда они оказались преждевременными. Однако свою роль они сыграли. М.К. Ворошилова привнесла в медицинскую науку нечто такое, что сейчас особенно востребовано: она заявила, что разные вирусы обладают разной специфичностью в отношении разных раковых клеток. Один и тот же препарат может оказаться неэффективным для одних больных и эффективным для других. Это создало предпосылки к нынешнему панельному подходу к применению онколитических вирусов— тому, чем мы сейчас занимаемся. Наша работа — фактически продолжение того, что начала мама. Ее вклад, позволяющий понять индивидуальную природу онколитических вирусов, только сейчас может быть оценен. Мы знаем, что под каждого больного надо подбирать свой препарат. Сейчас это называется «персонифицирования медицина», и это особенно актуально для биотерапии.
Знаю, что вы научились лечить раковые заболевания с помощью вирусов. И это невероятно популярно. Почему?
Это популярно потому, что сейчас в онкологии наблюдается тупик. Рак может быть полностью излечен на ранних стадиях, когда хирургический нож позволяет удалить все раковые клетки. Если же происходит распространение рака в виде метастазов, то это уже практически неизлечимое заболевание. Тогда основная задача— как можно дольше продержать больного в ремиссии. Но все равно полностью излечить рак, когда он получил распространение, уже невозможно. И для этого есть несколько фундаментальных причин, которые кроются в природе раковой клетки.
Раковая клетка— это не часть организма, а самостоятельный одноклеточный организм, который эволюционирует внутри организма по своим правилам. Эволюционируя, он может ускользнуть от любого воздействия. Какую бы химию на него ни налили, уничтожить его полностью нельзя: там имеется, предположим, несколько миллиардов раковых клеток, и пусть даже миллионы погибнут, но все равно останется какое-то количество, что потом даст рецидив. Любые химиотерапия, таргетная терапия, радиотерапия всегда приводят к рецидиву. Конечно, бывают случаи, когда мы видим длительную ремиссию и человеку кажется, что он, как говорят американцы, cancer-free. Но это все же не так.
Значит, надо искать какие-то другие способы борьбы. И вот как раз вирусы открывают возможность для того, чтоб излечить человека полностью, даже если у него распространенная форма рака. Дело в том, что раковая клетка может присутствовать в разных формах— в том числе в виде раковой стволовой клетки. Эта небольшая популяция клеток особо устойчива к любому воздействию. Вирусы способны уничтожать даже раковые стволовые клетки. И поэтому можно, воздействуя на пациента, вызвать полное уничтожение раковых клеток в организме. Но это пока только теоретически, потому что остается еще множество проблем, которые надо решать. Именно над этим мы сейчас и работаем. Хотя наряду с проведением этой работы мы не можем удержаться от того, чтобы все- таки попробовать. Мы даем нашим пациентам препарат.
Что представляет собой ваш препарат?
Это вирусные частицы, которые находятся в очищенном виде в определенном растворе. Их хранят в заморозке. Пациенту их вводят внутривенно, напрямую или с помощью клеточных носителей. Мы разработали технологию, когда у пациента можно взять несколько миллилитров крови, приготовить препарат дендритных клеток и потом in vitro, то есть в пробирке, зарядить их вирусом, после чего эти зараженные дендритные клетки можно ввести пациенту. Такие клетки направленно идут в сторону опухоли, где выгружают этот вирус и заражают раковые клетки.
Ваши препараты воздействуют только на раковые клетки или на весь организм?
В значительной степени — на раковые клетки. Надо понимать, что в природе существует очень много непатогенных вирусов, и мы используем именно такие. Раньше считалось, что вирусы— возбудители болезни, наши враги. Но это не так. Сейчас выясняется, что меньшая часть вирусов вызывает болезнь, а есть огромное число вирусов, которые могут паразитировать бессимптомно. Вообще задача и стратегия вируса — не убить и даже не вызвать заболевание, а быть как можно более незаметным. Таким образом они обеспечивают свое распространение. Обычно болезнетворные вирусы — это те, которые перешли от какого- то другого вида животного, например от птиц или летучих мышей. А человеческие вирусы в большинстве своем не патогенны.
Почему же эта область исследований до сих пор не нашла широкого применения?
Дело вот в чем. На протяжении последних 30 лет многие лаборатории и компании мира разрабатывают каждая свой вирусный препарат, вводят в вирус какие-то модификации, делают его более эффективным, патентуют, а потом дело доходит до клинических испытаний. И тут выясняется, что положительный ответ у больных наступает, предположим, в 20% случаев, а в других — никакого эффекта не обнаруживается. То есть так можно вылечить только небольшую часть пациентов. Происходит это потому, что раковые опухоли очень индивидуальны, как и раковые клетки. Если у одного пациента клетки опухоли чувствительны к использованному вирусу то у другого они могут быть нечувствительны. Эволюция раковой клетки обеспечивает ей более быстрый рост, но при этом какие-то функции, которые не нужны в обычной ситуации, могут утрачиваться. Например, клетка может лишиться способности заразиться определенным вирусом. Это означает, что под опухоль каждого больного нужно подбирать активный вирус.
Для этого требуется молекулярно-генетический анализ опухоли?
Мы над этим работаем. Но пока мы опираемся на известные данные, потому что современная вирусология — очень продвинутая наука. Нам известны свойства многих вирусов, их жизненный цикл. Вначале мы подбираем теоретически, потом проверяем экспериментально. Для этого берем много разных типов раковых клеток, заражаем несколькими разными вирусами последовательно и смотрим, какой спектр пациентов данный конкретный вирус заражает. Устанавливаем закономерности, а имея в руках живые опухолевые клетки пациента, можем подобрать под них вирус.
Какие результаты показывают ваши препараты?
О результатах говорить рано. Мы пока не располагаем клинической базой и сейчас находимся на пути к получению официальных разрешений. Мы уже разработали технологию очистки вирусного препарата, после чего должны провести доклинические исследования на животных. Они должны осуществляться не у нас, а в сертифицированной лаборатории. Сейчас у нас есть соглашение с НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, который будет проводить такие испытания в 2021 г. После этого надо будет получить соответствующее финансирование, чтобы приступить к клиническим испытаниям, а это довольно дорогое дело. У нас уже есть договоренность с крупными федеральными научно-клиническими центрами, которые за это возьмутся. Все они заинтересованы в проведении таких клинических испытаний. Но это не произойдет очень быстро. Хотя, как я уже сказал, у нас есть препарат, в безопасности которого мы уверены. И мы даем его тем больным, которые находятся в терминальной стадии заболевания.
Вы следите за их дальнейшей судьбой? Происходит ли какое-то чудо?
Конечно, следим. Не знаю, можно ли назвать чудом, когда к нам приходит больная с большим асцитом, которой говорят, что жить осталось не больше месяца. Когда откачиваешь асцит, возникает дефицит белка, такие больные долго не живут. А тут она живет четыре года и нет никаких симптомов заболевания. Есть также случаи с глиобластомой. Это абсолютно смертельное заболевание, но у нас есть несколько примеров, когда опухоль начинает медленно регрессировать. Причем эта скорость очень разная у разных больных, а на некоторых вирус может вообще не подействовать, потому что обычно мы не имеем возможности протестировать опухоль пациента до начала лечения. Поэтому наша стратегия— последовательно давать препараты разных вирусов в надежде на то, что в конечном счете найдется тот, который подействует.
Кроме того, существует большая проблема доставки вируса в опухоль. Вместо того чтобы вводить препарат внутривенно, мы предлагаем использовать клеточные носители, то есть собственные иммунные клетки из крови пациента, получить определенные субфракции этих клеток и с их помощью вводить вирус в организм. Но, опять же, нет гарантии, что это пройдет эффективно, особенно у терминальных больных с огромной опухолевой массой. Так что вопросов пока остается очень много.
Благодаря каким механизмам вирус уничтожает раковые клетки?
Вирус — это только затравка, начало лечения, а основное терапевтическое действие довершает иммунная система пациента. Дело в том, что опухолевые клетки защищают себя от действия иммунной системы. Например, они начинают секретировать такие факторы, которые, взаимодействуя с клетками иммунной системы, выключают их активность. В результате опухоль может привлечь множество иммунных клеток, призванных уничтожать раковые клетки, но они оказываются неактивными. Более того, какие-то из этих клеток, наоборот, начинают выполнять роль защитника, например секретировать факторы, которые способствуют прорастанию сосудов, улучшая питание опухолевых клеток. То есть в опухоли формируется иммуносупрессивное микроокружение.
Когда в опухоль проникает вирус, он так изменяет это микроокружение, что оно перестает быть иммуносупрессивным, а становится, наоборот, иммуноактивным. Антигены раковых клеток становятся лучше видимы иммунной системой, а раковые клетки подвергаются иммунной атаке.
Почему вирусам удается это сделать?
В нормальной клетке есть такие механизмы борьбы с вирусами, которые обеспечивают сохранность организма, а не самой клетки. Когда клетка впервые сталкивается с вирусом, она начинает сигнализировать всем остальным клеткам, что произошло внедрение вируса. Зараженная клетка принимается секретировать важный цитокин интерферон, выделять целый коктейль других факторов, которые действуют на окружающие клетки и защищают их от вирусной инфекции. Опухолевая клетка более чувствительна к вирусам, потому что она утрачивает способность сигнализировать об опасности и вырабатывать невосприимчивость к вирусам под воздействием интерферона. Она оказывается безоружной против вирусной инфекции. Когда вирус попадает в опухоль, туда устремляются иммунные клетки, чтобы с ним бороться, но встречают другого врага — раковые клетки, которые тут же начинают истреблять. А сами раковые клетки под воздействием интерферона утрачивают способность выключать активность иммунных клеток, и в результате в опухолевом микроокружении формируется иммуноактивное состояние. Даже когда вирус уже ушел из организма, иммунный процесс остается запущенным и опухоль продолжает деградировать.
Этим эффект вируса принципиально отличается от действия, предположим, химиотерапии или какого-нибудь таргетного препарата. Они с постоянством действуют на одно из отличительных свойств раковой клетки, и клетка получает возможность измениться и извернуться. Но если вы действуете на клетку сразу с нескольких сторон, да еще и с помощью природных механизмов, которые высокоспецифичны, то действие оказывается очень эффективным.
Иначе говоря, речь идет о принципиально новом способе лечения рака?
Да, это радикально новый способ лечения рака, который активно развивается во всем мире. И. хотя у нас здесь особого приоритета нет, мы имеем высокий шанс занять ведущие позиции и довести этот метод до широкого использования в клинике. Ведь в отличие от многих мы применяем панели вирусов, из которых можно подобрать препарат под каждого пациента, такого пока никто больше не делает. Наша панель постоянно пополняется новыми штаммами, и я надеюсь, что если нам удастся ускоренными темпами провести клинические испытания, то мы сможем добиться успеха.
Вы сказали, что под руководством вашей мамы были выделены энтеровирусы, которые также можно использовать для профилактики многих вирусных заболеваний. Как тут быть с коронавирусом?
Да, их можно использовать и в профилактических целях. Это еще одно значимое направление, которое в свое время развивалось в Институте полиомиелита, и Марина Константиновна здесь тоже сделала много важного и актуального. Когда были выделены эти энтеровирусы, оказалось, что они не вызывают никаких симптомов, но если их, например, дать проглотить здоровому человеку, то в течение двух-трех недель он будет защищен от любой вирусной инфекции. Это явление носит название интерференции вирусов, потому что в ответ на эту бессимптомную инфекцию в организме вырабатывается интерферон, который защищает от любого вируса. Безусловно, этот метод может быть эффективным средством борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Конечно, нам этого в массовом масштабе никто не разрешит, хотя сам я таким образом защищаюсь от вирусов всю жизнь— в том числе от гриппа. А для выхода на практическое здравоохранение нужно большое исследование. Кстати, такие испытания проводились с 1968 по 1971 г. на контингенте из 320 тыс. человек во время эпидемии гриппа в пяти городах Советского Союза—Таллине, Киеве, Ленинграде, Москве и Горьком. Они показали очень высокую эффективность: в три с половиной раза снизилась заболеваемость среди тех, кто получил эту вакцину. Это лучше, чем при применении противогриппозной вакцины.
Петр Михайлович, у вас в лаборатории много молодежи. Где вы берете молодых ученых?
У нас много замечательной, талантливой молодежи, но, к сожалению, моя лаборатория на протяжении всех лет ее существования работает почти исключительно на экспорт. Как только человек получает высокую квалификацию, он стремится уехать работать за рубеж. Так было после развала СССР и продолжается сейчас. Биомедицинские специалисты очень востребованы и высоко ценятся на Западе.
Почему так происходит?
Тому много причин. Одна из них — у нас нет обратной связи. Мы не можем сказать начальству, что не так, потому что нас не слушают. Представители министерств не интересуются такими проблемами, а меры, которые они принимают, только усугубляют ситуацию. При этом денег на науку выделяется все больше, но тратятся они все менее эффективно. Все, что мы делаем, — это пока, к сожалению, вопреки, а не благодаря.
Не жалеете, что уехали из Кливленда? Там, наверно, спокойнее бы работалось?
Не жалею. Я считаю, что жить надо в своей стране. Уехать — это значит не уважать себя, свое прошлое, свою семью. Что вообще у человека должно быть главным? Его личная жизнь или понимание того, что он часть династии, часть своей страны? Я в шестом поколении практический медик, мои дети тоже врачи, надеюсь, что и внук станет врачом. Для меня очень важно, чтобы дети, внуки знали свои корни, уважали свое прошлое, знали свою историю. Ради чего уезжать? Чтобы дети говорили с акцентом, забыли нашу великую культуру? Я считаю, что это просто абсурд. Многие крупные задачи нельзя решить силами одного поколения, нужна династическая преемственность.
То есть вы готовы пожертвовать личным благополучием ради этих высоких целей?
Вы знаете, я как-то всегда умудрялся неплохо жить. У нас есть семейная ферма в Калужской области, там теперь почти безвылазно трудится жена, я бываю на выходных, помогаю, чем могу. Жить можно, и совсем неплохо, интересно. Можно, конечно, ныть и жаловаться — этого не дали, того не дали... А ты возьми и сделай, в конце концов. И жизнь постепенно наладится. Голова есть, руки есть. Очень многое в наших силах. Верю в это.
«ЖИВАЯ ПОЛИОМЕЛИТНАЯ ВАКЦИНА ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С COVID-19»
Константин Михайлович Чумаков, вирусолог, работающий в области вакцин, доктор биологических наук, профессор, директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ.
Константин Михайлович, вы представитель династии Чумаковых, которые уже не первый десяток лет трудятся в области вирусологии. Но все они жили и работали в России. Почему вы уехали в Америку? Почему не остались продолжать дело родителей в своем отечестве?
Я уехал в США в 1989 г., потому что возможности работать в России практически не было. Я окончил кафедру вирусологии биофака МГУ и лет десять работал в Московском университете. Защитил в 1987 г. докторскую диссертацию, после чего меня пригласили в Институт микробиологии Академии наук заведовать лабораторией генетики. Я совершил ошибку, приняв это предложение, потому что в реальности оказалось, что в этом институте ничего не было. В течение двух лет я и мои сотрудники (а я пригласил своих лучших учеников из университета) сидели в пустых стенах, без оборудования. даже без мебели. Когда я получил предложение поехать в Америку, то с радостью его принял и никогда об этом не жалел.
Что за эти годы удалось сделать в США?
Я молекулярный биолог, вирусолог. И меня пригласили специально для того, чтобы я помог разработать тест для контроля вакцины против полиомиелита. Надо сказать, живя в Советском Союзе, я никогда не занимался вакцинами и вообще вел чисто фундаментальную работу. Такая была у нас школа. Считалось, что фундаментальная наука — это что-то высокое, а практическая наука — нечто более низменное. Приехав в Америку, я понял всю неправильность этого разделения и последние 30 с лишним лет занимаюсь вещами вполне прагматическими. Мы разрабатываем методы создания вакцин, которые были бы и безопасны, и эффективны, то есть занимаемся практическими аспектами вирусологии.
Вы работаете над полиомиелитными вакцинами, и это же было делом многих лет жизни вашего знаменитого отца. Это случайность или закономерность?
Это скорее случайность. Я вообще не собирался становиться биологом. И на биофак МГУ попал случайно. Мой брат Петр собирался туда поступать, и по дороге на дачу мы с ним заехали в университет, чтобы он подал документы. Так вышло, что у меня тоже были с собой документы, вот я и подумал: а почему бы и нет? В конце концов, я ничего не теряю. Я подал и поступил.
Не пожалели впоследствии?
Нет, не пожалел. Мне нравилась обстановка на биофаке. Это был конец 1960-х гг., очень веселое время, все были молодые и радостные. Постепенно я втянулся, особенно заинтересовала своей четкостью вирусология. Мы занимались молекулярными исследованиями, а это практически химия — органическая и биоорганическая. Это давало простор для творчества, когда можно было одному человеку сделать что-то новое. У меня уже тогда появились статьи, опубликованные без соавторов. Сейчас вы не найдете областей науки, где люди могут опубликовать какую-то осмысленную статью без соавторов, а тогда это было возможно, и это вполне соответствует моему индивидуалистическому характеру.
Константин Михайлович, еще в начале пандемии вы говорили, что полиомиелитными вакцинами можно в значительной степени решить проблему новой коронавирусной инфекции. Вы по-прежнему так считаете или ваше мнение изменилось?
Конечно можно, было бы желание. Тут вся проблема в том. что это слишком простое решение. Большинство ученых не хотят конкуренции. Сейчас все стараются создать специфические вакцины. государство выделяет на это миллиарды долларов. А полиомиелитная вакцина стоит 15 центов за дозу. Поэтому никому это не интересно.
А если мы отодвинем в сторону материальную составляющую и поговорим с чисто медицинской точки зрения — как можно объяснить эффективность такой вакцины в случае коронавируса?
С медицинской точки зрения абсолютно очевидно, что это не может не работать. Во-первых, вирус SARS-CoV-2, как, впрочем, и многие другие вирусы, очень боится врожденного иммунитета. В нем содержится несколько генов, которые нарушают механизмы врожденного иммунитета, сигналирование, которое ведет к образованию интерферона. Если бы вирусу были не страшны интерферон и врожденный иммунитет, он не стал бы растрачивать свой драгоценный генетический материал, чтобы с этим бороться.
Второе. Генетический анализ людей, которые переболели коронавирусом, показывает, что тяжесть болезни коррелирует именно с функционированием системы врожденного иммунитета. В частности, люди, у которых имеются дефекты сенсора, детектирующего присутствие РНК-вирусов, болеют гораздо тяжелее.
Третье доказательство связано с тем, что опыты по применению интерферона на ранних стадиях инфекции значительно облегчают течение болезни. Вообще, интерферон потому так и называется, что он интерферирует с размножением практически всех вирусов.
Еще известно, что SARS-CoV-2 не очень хорошо индуцирует интерферон за счет генов, которые блокируют сигналирование, ведущее к индукции интерферона. Все эти данные говорят о том, что, скорее всего, индукция механизмов врожденного иммунитета должна этому вирусу препятствовать.
Но, к сожалению, практически никто из тех, кто работает в области создания вакцин, не учитывает врожденный иммунитет как фактор в механизме их действия. Все заботятся только об индукции нейтрализующих антител. Некоторые думают еще об индукции Т-клеточного иммунитета, но врожденный иммунитет, который лежит в основе всего, остается за скобками. Это совершенно неправильно. Поэтому мне кажется, что использование неспецифической защиты, которая индуцируется живыми вакцинами, — это совершенно новый, перспективный подход к пониманию того, как вакцина действует.
Означает ли это, что нынешние специфические вакцины от новой коронавирусной инфекции могут быть неэффективными?
Трудно сказать. Их сейчас создается больше 200 штук, и они основаны на очень разных принципах— начиная от синтетических вакцин и заканчивая живыми аттенуированными вакцинами. Какие-то из них, наверное, могут быть эффективны. Пока остается открытым вопрос, возникает ли устойчивый иммунитет против этой болезни. Есть сообщения, что люди могут быть инфицированы по второму разу. Пока трудно сказать что-то определенное — слишком мало прошло времени. Однако ясно, что против такого продвинутого патогена нужно задействовать все ветви иммунного ответа. Если стратегия вашей вакцины основана только на индукции антительного гуморального ответа, то, скорее всего, это не будет эффективно надолго. Нейтрализующие антитела, безусловно, могут защитить вас от болезни, но проблема в том, что. как любые антитела, они довольно быстро распадаются. Период полураспада антител составляет около трех недель. поэтому для поддержания их уровня необходимо, чтобы возникли клетки памяти, которые выделяли бы некоторый фоновый, базовый уровень антител. При повторной инфекции они быстро размножались бы и выдавали значительное количество защитных антител. Вполне возможно, что против коронавируса не возникает таких клеток памяти, подобно тому как не образуются клетки памяти в случае вируса иммунодефицита человека, и это основная причина, почему у нас пока нет вакцин против ВИЧ. Сходство структуры белка gр-120 и шипового белка коронавирусов наводит некоторых ученых на мысль, что иммунитет против коронавируса будет недолговечным. Думаю, что клинические испытания покажут эффективность вакцины на протяжении трех-четырех месяцев, но что произойдет через год, нам неизвестно.
А живые неспецифические вакцины могут дать лучший результат?
Т-клеточная память более надежна. Конечно, хорошо бы создать вакцину, которая будет индуцировать стерилизующий иммунитет, то есть делать человека полностью невосприимчивым к заражению этим вирусом. Но неизвестно, получится ли это. Стерилизующие вакцины должны быть основаны на индукции хорошего антительного ответа. Но это вторая линия защиты. А первая линия— это врожденный иммунитет. Если вирус прорвался через врожденный иммунитет и начал размножаться, то здесь могут помогать антитела, которые индуцированы вакциной. Но если и это не сработало и часть клеток осталась зараженной, то в бой вступает тяжелая артиллерия — Т-клетки, которые уничтожают клетки организма, зараженные вирусом. Поэтому вполне может быть, что стерилизующий иммунитет создать не удастся. Однако если получится сделать болезнь более легкой и менее смертельной, то это уже хороший результат. Многие вакцины неспособны защитить человека от инфекции, но могут предохранить от заболевания.
Константин Михайлович, сейчас нас послушают, почитают и скажут: не пойду я вакцинироваться от COVID-19, а пойду-ка сделаю себе прививку от полиомиелита — наверное, это будет лучше и безопаснее. Что вы скажете по этому поводу?
Я бы тоже не пошел прививаться от COVID-19 до тех пор, пока не будут доказаны безопасность и эффективность такой вакцины. Мне кажется, нет смысла прививаться неизвестно чем, если нет уверенности, что это принесет вам пользу и не причинит вреда. А что касается вашего вопроса, то прививка от полиомиелита, кори, БЦЖ или любыми другими живыми вакцинами, наверное, будет иметь в данном случае сходный защитный эффект. К сожалению, он не будет длиться очень долго. Речь идет о нескольких месяцах. Потом нужна ревакцинация. Поэтому если удастся создать специфические вакцины, которые вызовут устойчивый пожизненный иммунитет, то это будет предпочтительно. Но в качестве первого эшелона защиты, первого барьера, который можно поставить на пути новой пандемии, это вполне годится. Причем прелесть подобного подхода состоит в том, что он годится не только от коронавируса, а от любого другого возбудителя, в том числе и гриппа. Такой подход очень ценен, поскольку мы всегда можем его использовать, как только возникает новая пандемия даже неизвестного нам вируса.
Обычно людям, которые хотят сделать себе такого рода прививку, предлагают сдать анализ на антитела к этому возбудителю и, если они понижены, рекомендуют вакцинацию. Если же нет, то вакцинация им не нужна и даже вредна. Как быть в этом случае?
Здесь антитела ни при чем. Ведь речь идет не о том, чтобы подстегнуть уровень антител, которые эта вакцина стимулирует, а о том, чтобы индуцировать образование интерферона и других механизмов врожденного иммунитета вне зависимости от антител. Поэтому ничего тестировать не надо. Если бы завтра, предположим, было объявлено о намерении привить всю Москву, то. я вас уверяю. COVID19 через две недели закончился бы.
Серьезно?
Абсолютно. Конечно, пандемия не завершилась бы до конца, но вирусу некуда было бы деваться, потому что если население станет резистентными хотя бы на несколько недель, то вирус за это время сильно ослабеет и передача его резко снизится. А когда эффект этой вакцины ослабнет, можно сделать по второму разу. В принципе, это готовый подход. Мы предлагали осуществить такое в Соединенных Штатах. Посчитали, что для всей страны, а в США проживает 350 млн человек, речь идет о каких-то $40 млн. Это почти бесплатно. Особенно с учетом того, что экономика потеряла триллионы и сейчас миллиарды идут на разработку вакцин, которые могут еще и не работать. А тут готовое решение. Но нас не захотели услышать.
Это очень печально.
Это жизнь. Общество состоит из людей, у каждого есть свои интересы — и. к сожалению, не всегда эти интересы сочетаются таким образом, что выигрывает общество. Я ничего не имею против того, чтобы ученые разрабатывали новые вакцины, это абсолютно необходимо делать. Эти подходы не альтернативны друг другу. Но и наш подход важен и нужен. Мне кажется, совершенно недопустимо его не использовать.
Зачем сейчас создавать новые полиомиелитные вакцины? Разве уже существующие плохи?
Новые вакцины, безусловно, нужны. Нынешняя живая полиомиелитная вакцина замечательная. но в достаточно редких случаях она может вызывать осложнения за счет того, что вирус мутирует и становится более патогенным. Она вызывает осложнения примерно в одном случае на 3 млн доз. Это неплохой результат, но. если вы окажетесь одним из этих трех миллионов, вас это не утешит. Поэтому сейчас создается вакцина нового поколения на основе знания молекулярной биологии и механизмов патогенеза. Ожидается. что она будет гораздо стабильнее генетически, не будет мутировать к вирулентности, соответственно, будет более безопасной.
Как вы сами защищаетесь от коронавирусной инфекции? Вы сделали себе прививку от полиомиелита?
К сожалению, в США нет живой полиомиелитной вакцины, поэтому я просто сижу дома. Начиная с середины марта я работаю удаленно и выхожу на улицу просто погулять или сходить за продуктами в магазин. Конечно, иногда хочется куда-то поехать, но все границы закрыты, даже из штата в штат не всегда возможно проехать. Надеюсь, рано или поздно это кончится. Хотя жизнь, конечно, не вернется в прежнее русло. COVID-19 разделит ее на «до» и «после».
Как вы думаете, что кардинально изменится в нашей жизни после пандемии?
У нас уже никто не жмет руки, а те страны, где было принято целоваться при каждой встрече, теперь тоже пересмотрят свои привычки. Я видел по телевизору репортаж, где политические деятели вместо того, чтобы жать руку друг другу, соприкасаются локтями. Наверное, возникнет такая новая традиция. Думаю, многие будут продолжать носить маски, особенно в помещениях. Впрочем, это происходило в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии и раньше. Может быть, потому в этих странах и пандемия не была такой жестокой, что там люди привыкли соблюдать такого рода гигиенические правила.
А если по большому счету, то в мире изменится многое. Уже сейчас поступают сообщения, что ряд компаний и учреждений, которые раньше снимали офисы, вдруг поняли, что они могут так же эффективно работать, когда сотрудники находятся дома. В результате трафик станет не таким напряженным, люди будут больше «ездить» по интернету, чем по дорогам.
Сейчас сильно упала стоимость недвижимости в Нью-Йорке, потому что многие оттуда уехали. Цены и дальше будут падать. Люди, которые платили безумные деньги, чтобы жить на Манхэттене и ходить там на работу, теперь с радостью обнаружили, что могут уехать на природу и жить в пять раз дешевле. Бизнес будет делаться по-другому. Во многих случаях все будет происходить дистанционно. Я вот, например, уже привык общаться в Zoom-конференциях, и меня это вполне устраивает.
Конечно, не хватает человеческого общения «лицом к лицу». Вы вроде бы можете решить все вопросы, но потолкаться в перерыве за чашечкой кофе и обсудить какие-то вещи неформально возможности нет. А для научного обмена, мне кажется, это критично. До пандемии я часто ездил на научные конференции, и самое главное, что я оттуда увозил, что услышал или о чем договорился, происходило во время кофейного перерыва. Пока непонятно, чем это можно заменить, но как-то, наверное, приспособимся.
Но ведь многие люди вынуждены ходить на работу каждый день, находиться в тесных офисах, общаться с другими людьми. Что бы вы посоветовали таким людям, как им можно уберечься?
Надо быть аккуратными. Когда я работал в лаборатории, у меня возникли некие условные рефлексы: если я подержался за какую-то нестерильную поверхность, а потом хочу взять флакон с культурой, то я мгновенно протирал или прыскал руки спиртом. Какое-то шестое чувство возникает: чувствуешь, что рука может быть инфицирована. Она как бы горит. Думаю, сейчас такое чувство развивается у многих людей. Когда я выхожу на улицу, у меня на поясе висит бутылочка с санитайзером. Обязательно надо использовать маски. Они не гарантируют стопроцентную защиту, тем не менее это лучше, чем ничего. Поэтому тем людям, которые вынуждены ходить на работу, надо об этом все время думать.
Константин Михайлович, как вы полагаете, чего нам ждать дальше от этой пандемии, как она будет развиваться?
Трудно сказать, ведь в разных регионах она развивается по-разному. Где-то она идет на спад, а где-то началась вторая и даже третья волна. Например, в Нью-Йорке была всего одна волна в начале марта, она пошла на спад к концу апреля, в мае упала, и сейчас там довольно хорошие цифры. В это время во Флориде, в Калифорнии все было спокойно. А сейчас у них идет вторая волна. Там, где я живу, в штате Мэриленд, тоже было две волны. Сейчас ситуация стабилизируется. Что за этим последует, никто не знает. Некоторые предсказывают по аналогии с другими респираторными заболеваниями, что в осенне-зимний сезон будет еще одна волна, но никто не знает, так ли это. Весной все ожидали, что летом эпидемия притихнет, потому что будет жарко. Но именно с началом жары, особенно на юге, коронавирус разгорелся с особой силой. Зато в этом году в Южном полушарии, где сейчас заканчивается зима, не было гриппа. Думаю, частично из-за того, что люди соблюдают гигиену, а частично потому, что коронавирус интерферирует с размножением вируса гриппа.
Так, может быть, и осенью гриппа не будет?
Может быть. Вирусы — это ведь целый мир со своими законами и загадками. Есть сезонные вирусы, такие как энтеровирусы, которые появляются в основном летом. В теплое время года люди купаются в воде и заражаются. Именно этим некоторые ученые объясняют, почему летом нет гриппа: энтеровирусы конкурируют с ним. А есть такие вирусы, у которых сезонность раз в два года. Они как часы: строго в четные годы есть вспышка, а в нечетные — нет. Существуют и вирусы с сезонностью раз в три года. Как это объяснить? Конечно, ученые все могут обосновать теоретически, но доказать, быть уверенным, что это правильное объяснение, я, например, не могу. Поэтому прогнозировать что-то, особенно для нового вируса, о котором мы мало знаем, слишком опасно. Я не берусь.
А что вы можете сказать о пресловутом коллективном иммунитете? Он формируется?
Я думаю, да. Одна из причин, почему в Нью-Йорке сейчас спокойно, — именно такой процесс. Согласно исследованиям уровня антител к этому вирусу, чуть ли не 20% населения уже имеют иммунитет. Многие, просто заражаясь этим вирусом, никогда не испытывали никаких симптомов. Это первое. Второе: даже если у вас нет антител, это не означает, что вы на 100% к нему чувствительны. Существуют достаточно веские аргументы в пользу того, что сезонные коронавирусы, а их четыре основных типа, индуцируют Т-клеточный иммунитет, имеющий довольно широкий спектр защиты. Соответственно, люди, которые переболели этими коронавирусами, могут быть менее чувствительны к SARS CoV-2. Вполне вероятно, частично этим и объясняется то, что сейчас смертность значительно падает. Надеюсь, этот процесс будет продолжаться и ничего особенно страшного нам уже не грозит.
■
Беседовала Наталия Лескова
Петр Михайлович Чумаков, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток
Константин Михайлович Чумаков, вирусолог, работающий в области вакцин, доктор биологических наук, профессор, директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ