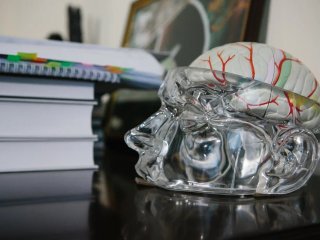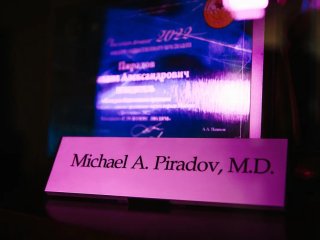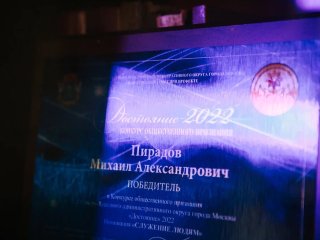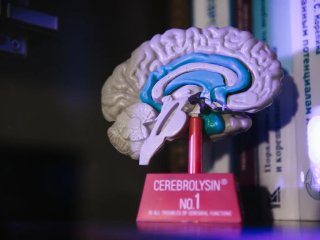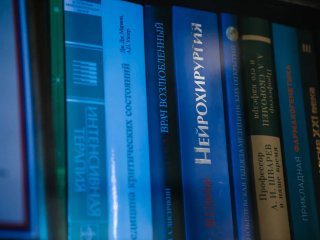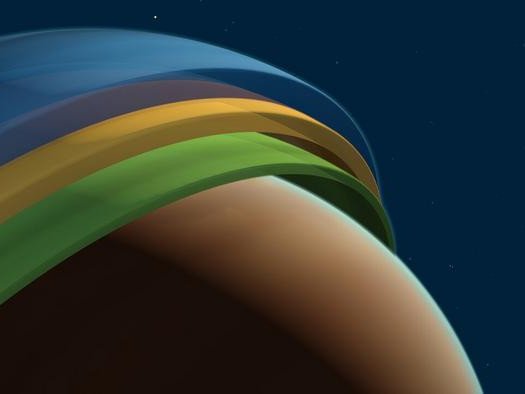Что представляет собой сегодня Научный центр неврологии РАН? Какие там ведутся исследования, какие заболевания научились лечить? Куда ведут нас цифровые технологии — к деградации или расширению возможностей? Можно ли увеличить объем памяти человека и зачем нужно это делать? Об этом мы беседуем с академиком Михаилом Александровичем Пирадовым, директором Научного центра неврологии и вице-президентом РАН.
Михаил Александрович Пирадов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Пирадов Михаил Александрович — невролог, доктор медицинских наук, академик, вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии. Один из ведущих специалистов в области неврологии, автор свыше 900 научных работ, 22 изобретений и патентов, посвященных фундаментальным и прикладным проблемам, среди которых: острые нарушения мозгового кровообращения, коматозные состояния, демиелинизирующие воспалительные полинейропатии, экстракорпоральные методы терапии при патологии нервной системы, нейропластичность и нейрореабилитация. Один из авторов Национальных критериев смерти мозга, положенных в основу закона РФ «О трансплантации органов и тканей человека». Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2009 и 2022 гг., обладатель целого ряда почетных наград.
— После многих лет стройки здание Научного центра неврологии РАН введено в эксплуатацию. Расскажите, какая новая аппаратура появилась, какие новые возможности открываются для лечения пациентов.
— Мы находимся в новом корпусе Научного центра неврологии, где сейчас размещены два института: Институт нейрореабилитации и Институт функциональной нейрохирургии. Здесь также работают два неврологических отделения и большое отделение нейрореанимации на 23 койки. В последние годы мы стали много взаимодействовать с нейрохирургами, постоянно расширяя спектр оперативных вмешательств.
Если мы говорим о самых последних достижениях в этой области, то буквально несколько месяцев назад у нас был установлен фокусированный ультразвук, который позволяет, не вскрывая черепную коробку, выполнять нейрохирургические операции на различных глубинных структурах мозга. Это касается болезни Паркинсона, эссенциального тремора, эпилепсии, ряда других нейродегенеративных заболеваний. Учитывая, что нейрохирургия в нашем центре появилась еще в 1965 г. и акцент был сделан именно на стереотаксическую нейрохирургию, приобретение фокусированного ультразвука продолжает то, чем мы занимались, но более щадящими методами. Сегодня Институт функциональной нейрохирургии выполняет практически весь спектр нейрохирургических вмешательств на головном и спинном мозге, а также на периферических нервах.
— Что представляет сегодня собой нейрореабилитация? Ведь это чуть ли не важнейшее направление лечения для ваших пациентов.
— Совершенно верно. По недавним рейтингам Европейского бюро ВОЗ мы входим в число семи лучших нейрореабилитационных центров Европы. Если раньше говорили, что «неврологи все знают, но ничего не могут», то за последние 10–15 лет ситуация изменилась коренным образом, в том числе и в области нейрореабилитации. Конечно, во многом это произошло благодаря научно-техническому прогрессу. Раньше, например, человек переносил инсульт и в плане движений то, что он имел через 12 месяцев, оставалось с ним на всю дальнейшую жизнь. В отношении речевых нарушений был запас не более чем в два-три года, и после этого восстановление также останавливалось. А сейчас, благодаря использованию новейших компьютеризированных, роботизированных, виртуальных технологий нейрореабилитации, возможно эффективно восстанавливать двигательные функции на протяжении двух, трех, четырех и даже пяти лет после перенесенного инсульта.
В институте нейрореабилитации есть много самых передовых инновационных устройств для эффективного восстановления после инсульта и других тяжелых заболеваний нервной системы. Мы активно сотрудничаем с целым рядом продвинутых отечественных инжиниринговых фирм, которые делают аппараты, позволяющие людям с полностью парализованной рукой с помощью так называемых экзопротезов не только брать стакан воды и подносить ко рту, но даже печатать на компьютере, что резко расширяет их социальную адаптацию.
— Правда ли, что ваш научный центр занимается всеми имеющимися неврологическими заболеваниями?
— Да, и этим наш центр уникален. Мы занимаемся не только всеми социально значимыми заболеваниями — инсультами, эпилепсией, рассеянным склерозом, паркинсонизмом, — но и целым рядом других, в том числе орфанными, весьма редкими заболеваниями нервной системы и добиваемся, как правило, хороших результатов благодаря нескольким факторам.
Во-первых, это высококлассное оборудование, в том числе и отечественного производства. Целый ряд отечественных фирм, особенно в области нейрофизиологии, выпускают весьма достойные установки, не уступающие лучшим зарубежным аналогам. Второе — у нас работает команда высококлассных профессионалов. Нашему центру исполняется через несколько месяцев 80 лет, и за эти годы здесь сформировались очень серьезные, передовые научные неврологические школы.
— Почему это важно? Многие думают, что хорошего оборудования вполне достаточно.
— Это не так. Когда ты работаешь под руководством профессионала, тебе много проще и быстрее перенять правильные и грамотные навыки ведения исследовательской и клинической деятельности. Принцип «делай как я» во время операций, клинических обходов чрезвычайно эффективен и позволяет формировать научные школы, которые очень долго живут и находятся в постоянном развитии. И такие школы у нас есть в области сосудистой патологии мозга, демиелинизирующих заболеваний, нейрогенетики, нейрохирургии, нейрореанимации. Немногие знают, что первые отечественные аппараты искусственной вентиляции легких появились не в хирургических центрах, а именно у нас, тогда в Институте неврологии АМН СССР.
— Почему же первые советские аппараты ИВЛ впервые появились именно у вас?
— В середине 1950-х гг. по Европе и Северной Америке прокатилась эпидемия полиомиелита, который приводил к поражению поперечно-полосатой мускулатуры, включая дыхательные и межреберные мышцы, и люди часто умирали от асфиксии, поскольку тогда не было аппаратов, способных на какое-то время заменить функцию дыхательной мускулатуры. Эпидемия дала толчок к их созданию, и первой тут оказалась Швеция.
Наше правительство отправило на стажировку в эту страну, где к тому времени появились первые, не очень совершенные аппараты искусственной вентиляции легких, двух врачей — невролога и реаниматолога. Одна из них, профессор Л.М. Попова, вернувшись, положила начало отечественной нейрореаниматологии и стала идейным вдохновителем создания сети респираторно-реанимационных центров в большинстве республик Советского Союза. У нас в институте появились люди из различных технических вузов, был сконструирован первый отечественный аппарат ИВЛ АИД-1 (1955), который начал использоваться непосредственно у наших больных с полиомиелитом. Спустя несколько лет его сменил ДП-8, разработанный под патронажем Л.М. Поповой на базе МГУ. Нам до сих пор принадлежит второе место в мире по длительности непрерывной искусственной вентиляции легких у человека, находящегося в полном сознании, — 23 года!
— Что это за пациент?
— Это была молодая 27-летняя учительница математики, которая в середине 1950-х гг. перенесла полиомиелит. У нее были полностью парализованы все мышцы, начиная с области плеч и ниже. Она могла только поворачивать голову, открывать и закрывать глаза, говорить при закрытой трахеостоме. Все 23 года она была прикована к аппарату ИВЛ, находясь в абсолютно ясном сознании. Этот случай описан в журнале «Анестезиология и реаниматология». Помимо этого уникального по своей длительности случая, через нас прошло очень большое количество людей, которые на ИВЛ прожили 10, 12, 15 лет.
— Но ведь на ИВЛ нельзя держать вечно?
— Можно, как выяснилось, при высоком профессионализме реаниматологов и соответствующей аппаратуре. Сейчас эта область медицины достигла выдающихся успехов.
— Во время эпидемии COVID-19, когда многие люди перенесли эти состояния, часто говорили о том, что подключение к ИВЛ вызывает ряд осложнений и длительно это не рекомендовано. Не возникал ли вопрос о том, что нет смысла держать человека на ИВЛ так долго, лучше отключить?
—У нас в стране существует единственное состояние в медицине — смерть мозга, когда подобное решение юридически возможно.
— Вы этим вопросом занимались много лет и выступили одним из авторов национальных критериев смерти мозга. Какие критерии здесь неоспоримы?
— Эти критерии чрезвычайно жесткие и строгие и не допускают каких-либо двусмысленностей — мера ответственности слишком велика. Они всегда утверждаются соответствующими приказами Минздрава и пересматриваются через определенное количество времени. Первые критерии в нашей стране появились в 1986 г., потом — в 1993 г., в 2001 г.
Последние критерии, которыми пользуемся сейчас, возникли на рубеже 2014–2015 гг. Их надежность подтверждена многократно во всей стране, они, кстати, считаются одними из лучших в мире. Это чисто медицинские критерии. Нас в медицинских институтах учили, что человек может умереть или от остановки сердца, или от остановки дыхания. Но с определенного времени появилась третья причина смерти человека — это смерть его мозга. И в нашей стране, так же как и в подавляющем большинстве других стран мира, смерть мозга юридически приравнивается к смерти человека.
— В последние годы вы занялись изучением памяти человека, ее механизмов и возможностей расширения. Какие успехи на этом фронте?
— Нам сейчас удается в течение 30-минутной сессии навигационной транскраниальной магнитной стимуляции определенной области мозга увеличивать объем рабочей, оперативной памяти на 20–25%.
Вся проблема заключается в том, как долго этот эффект может быть сохранен. Пока это несколько недель. И сейчас все те, кто занимаются этой проблемой, работают над продлением сроков сохранения этого объема памяти и его дальнейшим увеличением. Мы постоянно говорим о том, что память — одно из основных, если не основное свойство мозга. Увеличение объема памяти раскрывает перед человечеством, перед цивилизацией совершенно иные возможности.
Михаил Александрович Пирадов. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Какие?
— Например, вы можете оканчивать среднюю школу или высшее учебное заведение в два раза быстрее.
— Такие примеры есть, но они единичны, а это может стать в порядке вещей?
— Вполне возможно. Изучение иностранных языков в совершенно другие сроки. Быстрое овладение сложными навыками — например, пилотированием самолета, работой на станке с ЧПУ, хирургическими манипуляциями. Это может привести и к целому ряду других результатов с учетом того, что наша память будет хранить совершенно другой объем информации.
— В нашу эпоху цифровых технологий вас могут спросить: зачем все это нужно? А вы говорите, что надо развивать не только цифровые технологии, которые за нас многое научились делать, а скоро научатся и еще больше, но и развиваться самим.
— Несколько лет назад на одном из заседаний Петербургского международного экономического форума я вспомнил и рассказал одну интересную историю. Норвежцами было проведено исследование на 34 тыс. жителей Западной Европы. И оказалось, что люди, родившиеся с 1930 по 1980 г., имеют IQ в среднем на 20 пунктов выше, чем люди, родившиеся после 1980 г. Речь не идет о какой-то стране, это в принципе о человечестве. О чем это говорит? О том, что часть человечества за счет все большего жизненного комфорта, который дает научно-технический прогресс, все больше деградирует.
— Мы думаем, что приобретаем свободу, а на самом деле становимся рабами своих собственных разработок?
— Мы в школе с легкостью умножали в уме двузначные цифры друг на друга. У нас это не вызывало проблем. С помощью логарифмической линейки мы считали с той же скоростью, с какой люди сейчас считают на калькуляторах. В нашей памяти с легкостью умещались десятки номеров телефонов. Сейчас, я думаю, мы номеров десять знаем наизусть, и то сомневаюсь. Мы окружены этой легкостью бытия: посудомоечные машины, телевизоры, автомобили, стиральные машины, компьютеры, смартфоны... Алиса или Маруся вам что-то хорошее скажут обязательно. Но вот что ждет цивилизацию? Возможно, ничего особо хорошего, если мы и дальше будем идти по такому пути.
— Если мы не последуем вашему совету и не будем пытаться изменяться, поднимать свой интеллектуальный уровень?
— Да. Но у нас люди с бо́льшим желанием ходят сейчас в спортзалы и качают мышцы, нежели свой интеллект. Это чрезвычайно большая проблема. Потому что 2–3% населения в развитых странах полностью покрывают потребности в продуктах сельского хозяйства. А 10–15% людей в этих же странах покрывают потребности в промышленных товарах, начиная от автомобилей и заканчивая одеждой и всем остальным. И задается вопрос: что делают остальные 80%? Мы видим огромное количество молодых ребят, по крайней мере на Западе, которые работают не в конструкторских бюро, больницах, на производствах, а официантами в кафе, на бензоколонках, разносчиками пиццы, курьерами и т.д.
Мы сейчас живем в эру еще слабого ИИ, который начал много делать за нас, и от сильного он отличается тем, что человек сам ставит условия для конечных задач. ИИ слабый пока что зависит от нас. А сильный ИИ — это то, что от нас уже не будет зависеть, он будет устанавливать и развиваться по своим собственным правилам.
— Человечество всегда было ленивым. Если что-то им двигало, то это необходимость добывать пищу, чтобы продолжить свое существование. Но всегда были подвижники, которые вели человечество вперед. Поэтому есть надежда, что и сейчас будет так, как считаете?
— Информация, которую мы получаем с разных сторон, от гаджетов и остальных источников информации, не пережевывается и не анализируется. Она в нас вкладывается. У нас налицо, если хотите, нейролингвистическое программирование, которое летит в наш мозг со всех сторон. И это приводит к тому, что люди часто не переваривают, не анализируют информацию, они просто ее поглощают.
— Но вернемся к вашим исследованиям. Как вы думаете, есть ли предел у нашей памяти?
— Я думаю, что почти нет. Мировой рекорд по запоминанию знаков после запятой у числа пи (3,14) составляет то ли 23, то ли 28 тыс. знаков после запятой. Есть люди, которые могут назвать эти цифры в нужном порядке. Сложно такое себе представить. Эти люди — саванты. У них определенная область мозга — так называемый остров гениальности — развита неимоверно. Но, как правило, это происходит за счет других возможностей.
— Я хорошо знала Юрия Горного, который поражал всех своими арифметическими способностями, но в повседневной жизни это был совершенно беспомощный человек.
— Совершенно верно. Саванты могут вам назвать дату и какой это день недели в любом году, хоть в 2156-м, имеют экстраординарные математические способности, а в быту это дети. Уровень младших классов.
— А люди с расширенной памятью будут обычными, как мы с вами?
— Да, потому что память — это результат определенной тренировки, определенных воздействий. Это не то, с чем они исходно родились, когда человек изначально имеет определенные выдающиеся способности в ущерб другим.
— Но помимо запоминания не менее важен процесс забывания. Они будут забывать или все помнить?
— Что-то они будут забывать, как все люди.
— Вообще, можно ли помнить все? Якобы есть такие случаи.
— Помнить все, наверное, невозможно, но есть люди, помнящие очень много. У целого ряда людей фотографическая память. Они могут запоминать страницы текста, но это не говорит об их интеллекте. Это говорит просто об особенностях их памяти.
— А что говорит об интеллекте? Ведь важно же не просто улучшить память, но и поднять интеллектуальны уровень человечества. Глобальная задача!
— Знаете, человек, который знает пять языков, не обязательно интеллектуал. Это то, что называется многознанием. Есть люди, у которых совершенно запредельный IQ — 200, 220 единиц. А работает такой человек мясником в магазине. Это не связано с обилием знаний. То, что мы называем выдающимся умом, — это несколько иное. Это то, что хотят изучить и хотят «приручить», попробовать воспроизводить. Хотя считается, что гениальность — это 5%, а 95% — это труд. Но это красивые слова. Как не менее красивы слова о том, что наш мозг работает на 10–15% от своих возможностей, а мозг гения работает на 50%. Кто и как это считал?
В нашем мозгу в среднем 86 млрд нейронов. Есть очень простой червячок нематода, у которого 302 нейрона. Для того чтобы изучить все связи этой нематоды друг с другом, потребовалось 15 лет. Чтобы изучить связи 86 млрд нейронов при нынешних средства компьютерной техники, потребуется 4 млрд лет. В нашем институте сотрудники ради интереса взяли и подсчитали. Даже если компьютеры будут много мощнее, все равно потребуется непозволительно много времени.
— Поэтому невозможно сказать, что такое интеллект?
— Есть определение интеллекта, и не одно. Но чем больше мы развиваемся, тем больше трансформация наших взглядов на то, что называется интеллектом. Вот чем способный человек отличается от одаренного? А чем одаренный отличается от талантливого? А талантливый от гения? Это все по большей части относительно.
— Какие вы видите научные перспективы развития вашего центра?
— Поскольку мы говорим о мозге, это, с моей точки зрения, самое интересное для изучения, что только может быть сегодня на Земле, и подтверждением этого служит интересная статистика: за последние 11 лет во всех реферируемых научных журналах мира по всему спектру наук, начиная от физики и математики и заканчивая биологией и медициной, было опубликовано 17,5 млн статей. И каждая десятая из этих статей посвящена нейронаукам.
Это говорит о том, что сейчас для многих ученых нет ничего более интересного. Что такое мы? Мы — это наш мозг. В составе центра у нас есть Институт мозга. Он был создан в 1924 г. после смерти В.И. Ленина постановлением советского правительства. И сейчас, помимо изучения мозгов наших выдающихся современников — политиков, нобелевских лауреатов, деятелей науки и искусства, — там идет серьезная работа и по другим направлениям. Например, над клеточным репрограммированием: каким образом из обычной клетки кожи вырастить нейрон.
— А это возможно?
— Да. За это была получена Нобелевская премия. А потом взять и пересадить эту группу нейронов в те участки мозга, где происходит или атрофия вследствие того или иного патологического состояния, или инволюция вследствие возраста. Возможно, это даст нам шансы достичь биологического возраста, который сейчас считается предельным для человека, — 120 лет, потому что мозг управляет всеми нашими органами и гормонами.
— А еще лучше не умирать.
— Знаете, бессмертие (я не говорю про цифровое бессмертие) — это очень плохо для планеты. Это будет катастрофа, если какое-либо из живых существ станет бессмертным. Сегодня на нашей планете есть единственное бессмертное живое существо. Это маленькая медуза микроскопических размеров, которая какими-то неведомыми путями постоянно себя возобновляет.
— Она на самом деле не умирает?
— Да. Во всяком случае, на протяжении того количества времени, как ее открыли.
— И ведь никакой катастрофы не произошло.
— Никто не знает. Мы все меряем понятием тысяч лет. Даже не десятков тысяч лет. А мерить надо ими и миллионами. Вот сейчас на планете 8 млрд людей. Отметка в 9 млрд будет достигнута очень скоро. Считается, что Земля может прокормить 9 млрд людей на сегодняшний момент. А когда людей будет 10 млрд? Уже сейчас треть населения планеты не имеет доступа к пресной воде. Если ты можешь не есть 30 дней и все же остаться в живых, то если ты не будешь пить воду всего семь дней, ты умрешь.
— Но вернемся к вашим перспективам…
— У нас есть много работ, которые связаны с ранней диагностикой, за десятилетия до развития тех или иных заболеваний нервной системы. Мы занимаемся тем, что разрабатываем технологии нейрохирургического лечения фармакорезистентных форм ряда болезней нервной системы. Спектр работ, по которым развивается центр, весьма велик. Мы изучаем мозг, центральную и периферическую нервную систему во всем ее многообразии. Испытываем новые технологии, новые препараты, сами пытаемся их разрабатывать. Ставим себе задачей добиться эффективного восстановления после тяжелых заболеваний пациентов, которые раньше были неизлечимыми или очень плохо корригируемыми.
— Например?
— Например, есть такое заболевание — синдром Гийена — Барре. Каждый третий заболевший человек попадает на искусственную вентиляцию легких из-за паралича поперечно-полосатой мускулатуры, включая дыхательную мускулатуру. Раньше летальность при этом заболевании была очень высокой. Сейчас с помощью проведения объемного плазмафереза или введения иммуноглобулинов класса G она снижена до 2–3%.
То же самое происходит с миастенией, другим нервно-мышечным заболеванием, у лиц с миастеническими или холинергическими кризами. В этих случаях также требуется проведение ИВЛ. Сейчас мы имеем минимум летальных исходов в стационарах. У дифтерийной полинейропатии смертность была за 90%, мы ее снизили в 11 раз. Если раньше, 20 лет назад, рассеянный склероз в значительной степени сокращал жизнь людей, то сейчас с помощью современных средств фармакологии, правильной ранней диагностики не только самого заболевания, но и рецидивов удается продлить активную, практически полноценную жизнь людям и за 60, и за 70 лет. Таких примеров очень много.
То же можно сказать и в отношении эпилепсии: сейчас эти люди при правильном ведении не выпадают из общества даже в случаях с фармакорезистентными формами. Мы только что говорили не очень позитивно про научно-технический прогресс, но именно благодаря ему то, что раньше казалось совершенно невозможным в области медицины, стало реальным.
Чрезвычайно эффективна технология интерфейса «мозг — компьютер», когда ваша мысль переходит в реальное действие. Когда вы смотрите на лампу, которая стоит в дальнем углу комнаты, вы можете, не говоря ни слова, только силой мысли включить ее. Вы также можете открыть дверь, включить чайник, сделать многое другое, посылая мысленный импульс в компьютер, который после его обработки передает вычлененную команду на телеметрическое устройство, а оно в свою очередь реализует ваш мысленный посыл. Это все реально уже сейчас.
— Ваша мама многие годы была главным редактором самого многотиражного (17 млн экземпляров!) журнала в мире «Здоровье», всю жизнь проработала в медицинской журналистике…
— Не всю жизнь. Она начинала как оперирующий акушер-гинеколог.
— Тем более! Это она привила вам интерес и любовь к медицине?
— Да. Я постоянно слышал в доме разговоры о медицине. У мамы было огромное количество знакомых и друзей из медицинского мира. Помню, меня то ли в четыре, то ли в пять лет она привела в Институт хирургии, где маме вручали медаль ученого совета. После этого мы зашли в кабинет великого А.А. Вишневского и он меня спросил: «Кем ты хочешь стать?» Я сказал: «Нейрохирургом».
— Откуда же вы это взяли?
— Вот и он меня спросил: «А почему?» На что маленький ребенок ему совершенно спокойно ответил: «Мне слово нравится». Нейрохирургом я не стал, а вот нейрореаниматологом — да. И никогда об этом не жалею.