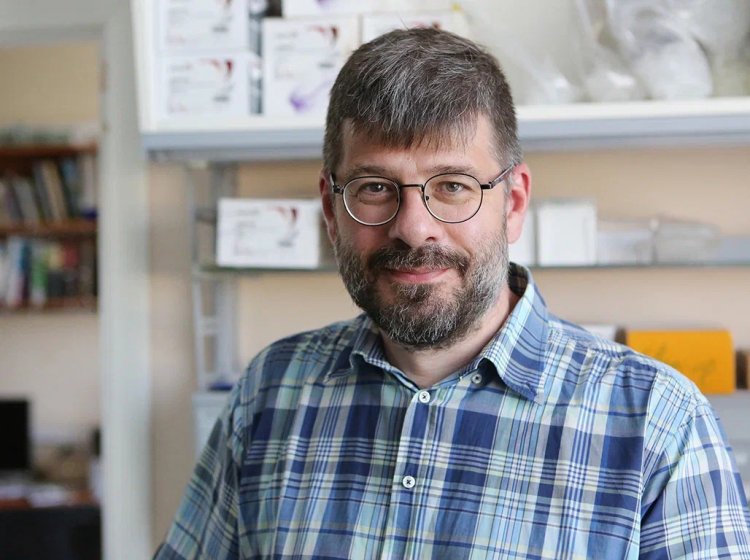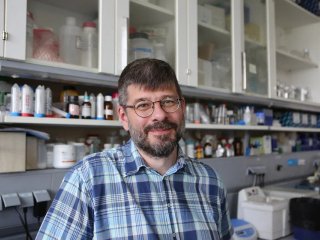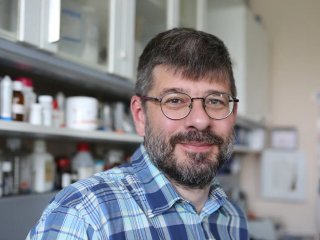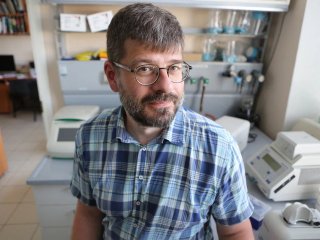Зачем нужно понимать функции всех генов и как это можно сделать, сможет ли человек создавать организмы с улучшенными свойствами, какие неожиданности открывает изучение генома, зачем искать новые антибиотики и чем они будут принципиально отличаться от уже известных, рассказывает Петр Владимирович Сергиев, профессор химического факультета МГУ, доцент Сколтеха, директор института функциональной геномики МГУ, член-корреспондент РАН.
— Петр Владимирович, вы потомственный ученый, у вас и отец, и дед были академиками, эпидемиологами и паразитологами. Вы пошли своим путем. Почему?
— Хотелось попробовать что-нибудь свое, в своей области. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Фактически я, наверное, с самого детства не очень долго колебался в выборе профессии. Что-то между химией и биологией — такой выбор у меня был буквально со школы. В результате я работаю на химфаке, но занимаюсь больше биологическими проблемами.
— Давайте поговорим о ваших исследованиях на мышах. Чем они интересны?
— Мне кажется, сейчас очень романтическое время в биологии, чем-то сродни эпохе Великих географических открытий, когда более или менее общие черты карты, а в данном случае генома, понятны, но еще очень много белых пятен, которые предстоит исследовать. На мой взгляд, самое интересное сейчас — это изучать функцию генов. Генов не так много, как это кажется, их около 20 тыс. практически у всех многоклеточных. Но есть, конечно, и отличия.
Многие тысячи генов пока не охарактеризованы, компьютер только «взглянул» на них. Очень интересно понять, что они программируют. Ведь это же инструкции, с помощью которых создается организм человека или мыши. Мне кажется, эта задача по силам научному сообществу — в течение десяти ближайших лет понять функцию всех генов. И тогда уже настанет черед инженерной биологии и создания живых существ по нашим задумкам.
— А это нужно — создание живых существ по нашим задумкам?
— Это неизбежно.
— Зачем?
— Тут есть несколько ответов. Первый — чисто утилитарный: может быть, удастся создавать, например, сельскохозяйственных животных с нужными свойствами.
— Или универсальных солдат.
— Давайте мы про такие вещи не будем говорить. У нас таких задач нет, и я думаю, это дело пока фантастическое и чисто гипотетическое.
— В фантастической литературе действительно присутствует такой сюжет. Но то, что вчера было фантастикой, нередко сегодня становится реальностью…
— И все-таки давайте думать о хорошем. Кроме животных с какими-то нужными нам свойствами, создание организмов — это фундаментальное знание, проверка нашего понимания. Мне кажется, что, только создав организм, мы можем считать, что мы правильно поняли, как организмы появляются и функционируют. До этого времени никто не гарантирует, что наши знания будут полны.
— Допустим, мы достигли этого уровня и научились создавать живые существа с заданными свойствами. Однако это дело будущего. Каков путь к этому, чем вы занимаетесь сейчас?
— Мы пытаемся исследовать функцию генов, про которые никто не знал. В этом есть некоторые успехи. Например, наша узкая специализация — это исследование метилтрансфераз, которые действуют на РНК. Это такой, я бы сказал, молекулярный тюнинг. РНК входит в состав молекулярных машин, довольно сложных, многокомпонентных, таких, например, как рибосома, которая синтезирует все белки, или сплайсосома, которая вырезает ненужные фрагменты в транскриптах. И вот эти молекулярные машины модифицированы, то есть к ним присоединяются химические группы, например метильные группы, с помощью специальных ферментов. А раз уж в эволюции возник специальный фермент, значит, наверное, он для чего-то нужен.
— Хотя встречались точки зрения, что у нас много мусора в составе ДНК. Потом, правда, часто выяснялось, что он все-таки функционален. Сейчас уже нет такой точки зрения, что в составе ДНК что-то может быть лишним?
— В ДНК, пожалуй, могут быть случайные мусорные участки, но все-таки, если это нормально действующий ген и при экспрессии этого гена получается функциональный фермент, то фермент наверняка не случаен. Мы, например, исследовали гены, которые модифицируют митохондриальную рибосому. Митохондрия — это, как вы знаете, энергетические фабрики клетки. Они произошли от симбиотических бактерий, которых когда-то поглотила архея, и с тех пор эта архея и бактерия живут вместе, образуя эукариотическую клетку.
В митохондриях есть свой аппарат биосинтеза белка, не похожий полностью на тот, который большинство наших белков синтезируют. Он скорее похож на бактериальный. И вот мы нашли ферменты, которые усовершенствуют митохондриальную рибосому, участвуют в ее сборке и модификации.
Два таких фермента мы открыли, исследовали их на уровне клеток. У них довольно интересная и разная эволюционная история. Один фермент как раз пришел от бактерии, и это бактериальное наследство в нашем геноме. У нас с вами поддерживаются две системы — одна пришла из архей, другая от бактерий, одна модифицирует цитоплазматические рибосомы, другая митохондриальные, и обе системы направлены примерно на одни и те же нуклеотиды.
— А второй фермент?
— Второй фермент, который мы нашли, наоборот, очень новый, он появился только у позвоночных в результате полной дупликации генома, которая произошла в их эволюции. Ген предкового фермента беспозвоночных удвоился, и одна из копий приобрела новую специализацию. Мы также создали мышей с нокаутом одного из этих генов и увидели довольно интересный феномен.
— А что это значит — нокаут гена?
— Мы используем всем сейчас известную и очень популярную систему CRISPR-Cas: берем у мыши оплодотворенные яйцеклетки, в них проводим микроинъекцию компонентов системы CRISPR-Cas, которые мы специально создаем, и «науськиваем» их на определенный участок генома. Эта система в яйцеклетке вносит разрыв в ДНК. Такой разрыв может приводить к порче гена. Соответственно, эти яйцеклетки после того, как мы в них инъецировали систему CRISPR-Cas, мы подсаживаем мыши, и она их вынашивает.
Это довольно сложная и хитрая операция, учиться этому надо долго. Я сам учился делать это год, сейчас научил ребят в МГУ, и они это делают сами. Мышь после этого в положенный срок, через три недели, рожает мышат.
— Чем они отличаются от обычных?
— Внешне ничем. Мы производим анализ того участка генома, на который мы нацелились, смотрим, не произошли ли там изменения, и довольно часто с хорошей эффективностью мы видим нокаут гена. Дальше таких мышей можно плодить и исследовать, что с ними не так. Фактически исследование неизвестных функций генов пока сводится к тому, чтобы испортить ген и посмотреть, что получится.
— Что дает эта информация об испорченных генах?
— Мы видим, что происходит с мышью. А именно, в случае инактивации этого фермента, который с митохондриальной рибосомой работает, мы видим, что мыши становятся слабее, что в принципе логично, потому что митохондрии обеспечивают энергией мышцы. Но также мы увидели довольно странный феномен — они хуже учатся. Нельзя сказать, что у нас тут ученые мыши, но искать путь в лабиринте мы можем их научить, и оказывается, что мыши без этого усовершенствования митохондриальной рибосомы учатся хуже, сложнее запоминают путь в лабиринте, дают слабину еще в нескольких тестах.
— Не жалко мышек? Извините за ненаучный вопрос.
— Мышек жалко, но все-таки, мне кажется, это стоит того, потому что мы получаем знания и о наших с вами генах. Кроме исследований чисто фундаментальных у нас довольно много исследований по сотрудничеству с медицинскими генетиками.
— Расскажите об этом.
— Одно из них, например, в рамках гранта РНФ совместно с НМИЦ онкологии в Санкт-Петербурге. Мы воссоздаем мутации, которые медицинские генетики в области онкологии группы Е.Н. Имянитова находят у пациентов, и это позволяет создавать модели предрасположенности к онкологическим заболеваниям. На самом деле медицинские генетики могут только с некоторой долей уверенности предположить, что та или иная мутация — патологическая. Они в некотором роде наблюдают корреляции. Но для того чтобы установить именно причинно-следственную связь, нужно воссоздать эту мутацию на модельном объекте, например на мыши, и увидеть, действительно ли мы видим то, что мы увидим у пациентов.
— Ваши нокаутированные мыши ассоциированы с такими мутациями у онкологических больных?
— Да, конечно. Мы фактически воспроизводим те мутации, которые медицинские генетики видят у пациентов. Это должно помочь выявлять их на ранних стадиях и успешно лечить.
— Вы научились создавать такие мутации и наносить вред мышам. А есть ли у вас какие-то противоположные опыты, когда вы, наоборот, улучшили мышь, повысили качество ее обучения?
— Пинки и Брейна мы, конечно, пока не создали. Думаю, природа неплохо оптимизировала живые организмы, так что улучшить их в эволюционном плане с помощью наших манипуляций не так-то просто. Пока это дело будущего. Хотя теоретически, если учитывать, что горизонтальный перенос генов у таких сложных существ затруднен, можно прогнозировать, что генная инженерия когда-нибудь позволит улучшить живых существ.
— Но мы уже сейчас говорим о создании растений с улучшенными свойствами с помощью приемов генного редактирования. Вы сказали о том, что в будущем появятся животные с оптимизированными характеристиками. То есть мы уже сейчас спорим с эволюцией, находя у нее массу недочетов.
— Это правда. Мы, кстати, работаем с ВНИИ животноводства, вместе пытаемся создавать сельскохозяйственных животных. Пока мы отработали приемы генного редактирования на клеточных линиях животных. А наши коллеги из института животноводства отработали методологию получения клонов животных с помощью переноса с ядра соматической клетки в яйцеклетку. Так что теперь надо собрать эти две стадии воедино. Я надеюсь, в будущем мы сможем рассказать что-нибудь позитивное.
— В чем уникальность ваших исследований?
— У всех ученых есть свои излюбленные области работы, где мы имеем приоритет. Мы исследовали несколько генов, про которые никто не додумался. Например, сейчас изучили функцию одного из генов, так называемого миторегулина. Это тоже ген, продукт которого работает в митохондриях, но это не белок, а пептид. Он был аннотирован компьютерно как ген некодирующей РНК. Компьютер просмотрел, что там есть очень маленький участок, который кодирует маленький белок в 56 аминокислот. Мы его выявили, поняли, что этот маленький белок расположен в митохондриях и что он нужен для работы одного из комплексов дыхательной цепи.
Мы видим, что без него меняется состав липидов митохондрии, там избыточно повреждается один из основных липидов митохондрии — кардиолипин. И мы наблюдаем у мышей ряд патологий, связанных с работой почек, с силой мышц. Мы фактически из небытия, из ДНК, которая казалась мусорной, извлекли что-то, имеющее большую ценность для организма, и приблизились к пониманию того, как это работает.
— Допустим, мы когда-нибудь поймем, как работают все наши гены, вскроем генетический аппарат. Это будет означать, что мы познаем самих себя, или все равно останутся какие-то загадки?
— Я думаю, что человек, как и все животные, — это некая биологическая машина. Возможно, мы не все поймем, но, по крайней мере, очень многое. Если все научное сообщество объединится, мне кажется, эта задачка окажется ему по силам.
— А не страшно вмешиваться в святая святых, в геном, в ДНК, в замысел Творца?
— Мы пока чувствуем себя двоечниками на этом поприще, потому что мы, к сожалению, зачастую умеем только портить.
— А это опасно.
— Мы острожные и дотошные двоечники. Пытаемся стать умнее, понять, как все это устроено.
— Другое направление ваших исследований связано с антибиотиками. Это создание принципиально новых антибиотиков?
— У нас целое направление, связанное с бактериальным биосинтезом белка. Наверное, порядка половины антибиотиков направлены на то, чтобы подавить рибосому, то есть молекулярную машину, которая синтезирует белок. Соответственно, есть фундаментальная задача — понимание того, как антибиотики вредят рибосоме. Антибиотики как инструменты, фактически как ингибиторы позволяют также изучить, как функционирует рибосома, как она синтезирует белок. И вот это взаимодействие рибосомы и антибиотиков таит в себе еще довольно много открытий.
У нас есть поисковое направление, когда мы ищем антибиотики и среди синтетических соединений, и среди природных, которые делают, например, почвенные микроорганизмы или другие существа. Здесь нужно упомянуть И.А. Остермана, который сыграл в этом большую роль. У нас придумана система, которая позволяет достаточно быстро и просто определить, на что в бактериальной клетке действует тот или иной антибиотик. Для этого в клетку внесены репортерные гены флуоресцентных белков, экспрессия которых зависит от определенных регуляторных механизмов, так что бактериальная клетка, погибая от антибиотика, сигнализирует нам о том, почему ей плохо.
— Что это вам дает?
— Мы сразу можем понять, действует ли то или иное соединение, например, на биосинтез белка или же повреждает ДНК. После этого мы анализируем такое соединение в системе in vitro. У нас налажено сотрудничество с несколькими лабораториями, которые занимаются структурными исследованиями рибосом, и мы видим, где антибиотик связывается. Иногда удается найти какие-то новые антибиотики с новым механизмом действия. Часть из этих работ опубликованы, часть еще находятся в процессе работы.
Но целый ряд антибиотиков удалось найти — амикумацин, например, который останавливает перемещение РНК по рибосоме, когда она считывает матричную РНК и синтезирует белок. Этот антибиотик приклеивает мРНК к рибосоме. Есть тетраценомицин, который связывается в туннеле, через который белок покидает рибосому. Это выпускной путь для белка. Он там сидит и блокирует путь синтезируемого белка.
Но вот что интересно. Если раньше казалось, что антибиотик просто блокирует определенную стадию работы рибосомы, то теперь стало понятным, что все очень сильно зависит от последовательности белка, которую синтезируют рибосомы. Это как если бы мы представили себе, что, например, синтез белка — это уличное движение, где машины перемещаются. Раньше считалось, что антибиотик — это как будто улица перекрыта и никто не может пройти, ни один белок не может синтезироваться. А теперь оказалось, что нет, это не совсем так. Мы, например, видим, что только грузовики не могут пройти, а легковые машины могут. Соответственно, мы видим, что разные пептиды по-разному чувствительны к действию антибиотиков.
Это очень интересная тема, ее в свое время запустил А.С. Манькин, наш бывший соотечественник, который сейчас работает в Чикаго, а мы эти исследования тоже проводим. Мы создали вместе с нашими коллегами из Новосибирска (это группа М.Р. Кабилова) новый метод, как смотреть специфичность антибиотиков по отношению к тем белкам, которые они ингибируют.
— Что это за исследования?
— Мы придумали, как применять метод высокопроизводительного секвенирования. Если вдаваться в научные подробности, то метод основан на обратной транскрипции: положение рибосомы, когда она двигается по мРНК, можно определить с помощью обратной транскрипции. Обратная транскриптаза тоже двигается вдоль РНК, если есть праймер, и, встречая рибосому, ревертаза останавливается. По длине продукта обратной транскрипции можно понять, на каком месте рибосома застряла. Это касается и остановки рибосомы из-за антибиотика.
Но это не новость, а новость в том, что мы научились делать это одновременно с 40 тыс. матричных РНК и сразу получать информацию о том, где рибосома остановилась, застряла из-за определенного антибиотика. Значит, мы можем выяснить правила.
И действительно оказывается, что антибиотики действуют избирательно, то есть какие-то белки они останавливают, какие-то нет. Более того, это важно для активности антибиотиков, потому что если весь процесс биосинтеза белка в клетке одновременно остановился, то когда потом убрать антибиотик, все может продолжиться. Так действует бактериостатический антибиотик.
— Но ведь нам хочется убить бактерию раз и навсегда.
— Да, и интересно, что такая избирательность действия антибиотиков часто связана с бактерицидностью, потому что самое страшное для бактерии — это когда происходит нарушение регуляции, то есть какие-то белки синтезируются, какие-то нет и в клетке появляется мешанина из белков. Все идет наперекосяк, и бактериальная клетка гибнет.
— Вы сейчас говорите об общих закономерностях, но известно, что одни антибиотики в одном случае действуют, а в другом нет. Эти индивидуальные особенности как-то учитываются в ваших исследованиях? Возможно ли в принципе создать универсальный антибиотик, который будет эффективен во всех случаях?
— Пока антибиотики действуют более или менее универсально на все бактерии. Проблема тут в том, что хочется создать такую магическую пулю, которая бы действовала на всех бактериальных возбудителей болезней. То есть на патогенные бактерии действовала, а на мирных бактерий, которые нам очень помогают, например в пищеварении, в иммунной системе, — нет. Пока, конечно, такого еще не существует. Есть специфичность антибиотиков, которая скорее мешает. Некоторые антибиотики строго специфичны в отношении небольшой группы бактерий, как правило, близких родственников продуцентов антибиотиков, но нельзя сказать, что это именно патогенные бактерии подавляются, а хорошие не подавляются. Посмотрим, может быть, что-то и удастся создать или найти в будущем.
— Сейчас во всем мире остро стоит проблема антибиотикорезистентности, о которой кричат все врачи, особенно реаниматологи. Вы занимаетесь этой проблемой? Возможно ли найти такие антибиотики, которых это никак не коснется?
— Это очень правильный вопрос. Даже просто поиск новых классов антибиотиков позволит выиграть время в этом состязании с бактериями, потому что это своего рода гонка вооружения. Мы ищем новые антибиотики, бактерии придумывают механизмы устойчивости. Даже отсрочка в этой гонке — уже хорошо.
Однако хочется решить эту проблему раз и навсегда. Пока это не удается, но есть некоторые пары антибиотиков, которые действуют на рибосому, например, противоположным образом. Это пока наш секрет, потому что работа не опубликована, но, похоже, мы нашли некий антипод стрептомицина.
— Чем он хорош?
— Стрептомицин — широко известный антибиотик, открыт еще в 1940-х гг. Он влияет на уровень ошибок и на взаимодействие транспортных РНК с рибосомой. Если очень упрощать, то, допустим, я похож на малую субчастицу рибосомы, у которой есть голова и туловище, а здесь, как шарфик на шее, расположена матричная РНК. Транспортная РНК приходит сюда, происходит считывание, и потом они перемещаются вдоль шеи малой субъединицей. Если рибосома понимает, что пришла соответствующая кодону транспортная РНК, то есть записи в мРНК об аминокислоте, у нее закрывается декодирующий центр, то есть она как бы прижимает тРНК головой. Но только правильную, только если пришла тРНК с нужной аминокислотой — тогда эта аминокислота будет включена в белок.
— Так происходит со стрептомицином?
— Нет, стрептомицин способствует этому движению даже для неправильных тРНК. То есть он говорит рибосоме, что даже неправильная аминокислота подойдет, и рибосома начинает ошибаться. Это связано с конформационным изменением, с движением головы рибосомы. А антибиотик, который мы недавно обнаружили, действует обратным образом.
— Это как? Закидывает голову вверх?
— Да, он закидывает голову, то есть рибосома как бы задирает нос, и это приводит к тому, что тРНК выпадает. Но что самое интересное, что мутации устойчивости к стрептомицину повышают чувствительность к этому новому антибиотику, и наоборот. Есть шансы, что мы поймаем такую пару антибиотиков, что бактерия, защищаясь от одного антибиотика, с неизбежностью будет подставлять себя под удар другого, и наоборот.
— Скоро ли он появится в аптеках? Каков ваш прогноз?
— Подождите. Надо понять, может ли он в принципе появиться в аптеках, безопасен ли он, в первую очередь, для человека. Самая большая проблема даже не в том, чтобы найти новый эффективный антибиотик, а в том, чтоб найти безопасный антибиотик. Редко удается найти антибиотики, которые можно применять без риска. Довольно много соединений, которые убивают бактерии, но, к сожалению, могут убить также и человека, поэтому их применять нельзя. Так что пока мы в поиске.